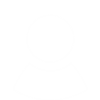Моя бабушка была хирургом во время Великой Отечественной войны. Она оперировала в блокадном Ленинграде и потом, когда едва живую и буквально уполовиненную дистрофией дед вывез ее (чтобы спасти) на фронт, она оперировала в передвижном госпитале отдельной танковой бригады. Так, кажется, было дело. Так я помню из ее рассказов.
Еще из ее рассказов я помню, что, кроме бойцов Красной Армии, она оперировала и пленных немцев, раз уж те попали в плен. Она оперировала врагов, тех, кто причинял смерти ее близким и разрушения ее стране, но в госпитальной палатке (белой с красным крестом) это было не важно, там все люди – пациенты. Оперировать этих пленных немцев было, надо сказать, довольно бессмысленно: доброй половине из них предстояло сгнить в лагерях, погибнуть от холода и цинги на строительстве таежных просек и прочего народного хозяйства, но хирург не должен об этом думать, хирург должен оперировать.
В те достопамятные времена врачи, оканчивавшие медицинские институты, обходились без всяческих благоглупостей, вроде клятвы Гиппократа, клятва Гиппократа считалась буржуазным пережитком. Моя бабушка клятвы Гиппократа не давала, но зато ей крепко вбили в голову принцип сортировки раненых, придуманный великим русским хирургом Пироговым. У нее были хорошие педагоги, специалисты царских еще времен, про которых большевики понимали вплоть до пятидесятых годов, что не стоит их трогать, что классовое самосознание не может заменить врачу хорошего знания анатомии, сделать врача приличным диагностом, укрепить руку хирурга, навострить глаз терапевта.
У нее были хорошие педагоги, настоящие врачи, и они плевать хотели на любые соображения, кроме чисто медицинских. Они лечили людей. До самой своей смерти бабушка моя ни секунды не сомневалась, что первым на стол следует нести того пациента, что ранен тяжелее других и не может ждать. В кошмарном сне она не могла бы допустить мысли, будто первыми следует оперировать командиров и коммунистов, а потом следует оперировать своих, а пленных следует оперировать в последнюю очередь и по остаточному принципу. Она просто оперировала: сначала тех, чье состояние было критическим, потом тех, чье состояние было тяжелым, потом тех, чье состояние было стабильным – вне зависимости от того, какие у пациентов были чины, и в которой из враждующих армий они служили.
Бабушка вот уже двадцать лет как умерла, а я до сих пор продолжаю понимать здравоохранение так, как она его понимала – может быть, слегка на военный манер. Я до сих пор думаю, что первыми должны получать помощь те пациенты, что в критическом состоянии, потом – те, что в тяжелом, потом те, чье состояние стабильно. Враги они или союзники, русские они или немцы – не имеет для меня значения.
Тем труднее мне бывает понять, что тяжело больные русские дети могут лечиться в московских клиниках, а столь же тяжело больные дети с Украины не могут. И у меня не укладывается в голове, что детям Северо-Западного региона проведут высокотехнологичные операции, потому что в Петербурге есть современные медицинские центры, а дети Южного региона получат лечение на порядок хуже, потому что не там родились. Я не понимаю, почему дети, у которых есть страховка, лечиться могут, и почему не могут лечиться дети, у которых страховки нету. Я не понимаю, когда тяжело больных детей не принимают больницы, чтобы не ухудшать показатели и не замедлять койкооборот. Я не понимаю: бабушка, рассказывая мне про Пирогова, объясняла, что именно тяжелые больные должны приниматься в первую очередь.
Наконец, я не понимаю, откуда взялись квоты. Бабушка ни про какие квоты мне не рассказывала. Бабушка рассказывала, что если в госпитале не хватает коек, то ставят походные кровати в коридорах, кладут больных на каталки или просто на носилки на полу. Вся эта современная минздравовская бюрократическая дребедень, с которой мы слишком быстро смирились, противоречит, на мой взгляд, основополагающему принципу медицины – лечить всех.
Лечить всех, а если всех одновременно лечить невозможно, тогда сортировать раненых и в первую очередь оказывать помощь наиболее тяжелым.
Еще из ее рассказов я помню, что, кроме бойцов Красной Армии, она оперировала и пленных немцев, раз уж те попали в плен. Она оперировала врагов, тех, кто причинял смерти ее близким и разрушения ее стране, но в госпитальной палатке (белой с красным крестом) это было не важно, там все люди – пациенты. Оперировать этих пленных немцев было, надо сказать, довольно бессмысленно: доброй половине из них предстояло сгнить в лагерях, погибнуть от холода и цинги на строительстве таежных просек и прочего народного хозяйства, но хирург не должен об этом думать, хирург должен оперировать.
В те достопамятные времена врачи, оканчивавшие медицинские институты, обходились без всяческих благоглупостей, вроде клятвы Гиппократа, клятва Гиппократа считалась буржуазным пережитком. Моя бабушка клятвы Гиппократа не давала, но зато ей крепко вбили в голову принцип сортировки раненых, придуманный великим русским хирургом Пироговым. У нее были хорошие педагоги, специалисты царских еще времен, про которых большевики понимали вплоть до пятидесятых годов, что не стоит их трогать, что классовое самосознание не может заменить врачу хорошего знания анатомии, сделать врача приличным диагностом, укрепить руку хирурга, навострить глаз терапевта.
У нее были хорошие педагоги, настоящие врачи, и они плевать хотели на любые соображения, кроме чисто медицинских. Они лечили людей. До самой своей смерти бабушка моя ни секунды не сомневалась, что первым на стол следует нести того пациента, что ранен тяжелее других и не может ждать. В кошмарном сне она не могла бы допустить мысли, будто первыми следует оперировать командиров и коммунистов, а потом следует оперировать своих, а пленных следует оперировать в последнюю очередь и по остаточному принципу. Она просто оперировала: сначала тех, чье состояние было критическим, потом тех, чье состояние было тяжелым, потом тех, чье состояние было стабильным – вне зависимости от того, какие у пациентов были чины, и в которой из враждующих армий они служили.
Бабушка вот уже двадцать лет как умерла, а я до сих пор продолжаю понимать здравоохранение так, как она его понимала – может быть, слегка на военный манер. Я до сих пор думаю, что первыми должны получать помощь те пациенты, что в критическом состоянии, потом – те, что в тяжелом, потом те, чье состояние стабильно. Враги они или союзники, русские они или немцы – не имеет для меня значения.
Тем труднее мне бывает понять, что тяжело больные русские дети могут лечиться в московских клиниках, а столь же тяжело больные дети с Украины не могут. И у меня не укладывается в голове, что детям Северо-Западного региона проведут высокотехнологичные операции, потому что в Петербурге есть современные медицинские центры, а дети Южного региона получат лечение на порядок хуже, потому что не там родились. Я не понимаю, почему дети, у которых есть страховка, лечиться могут, и почему не могут лечиться дети, у которых страховки нету. Я не понимаю, когда тяжело больных детей не принимают больницы, чтобы не ухудшать показатели и не замедлять койкооборот. Я не понимаю: бабушка, рассказывая мне про Пирогова, объясняла, что именно тяжелые больные должны приниматься в первую очередь.
Наконец, я не понимаю, откуда взялись квоты. Бабушка ни про какие квоты мне не рассказывала. Бабушка рассказывала, что если в госпитале не хватает коек, то ставят походные кровати в коридорах, кладут больных на каталки или просто на носилки на полу. Вся эта современная минздравовская бюрократическая дребедень, с которой мы слишком быстро смирились, противоречит, на мой взгляд, основополагающему принципу медицины – лечить всех.
Лечить всех, а если всех одновременно лечить невозможно, тогда сортировать раненых и в первую очередь оказывать помощь наиболее тяжелым.